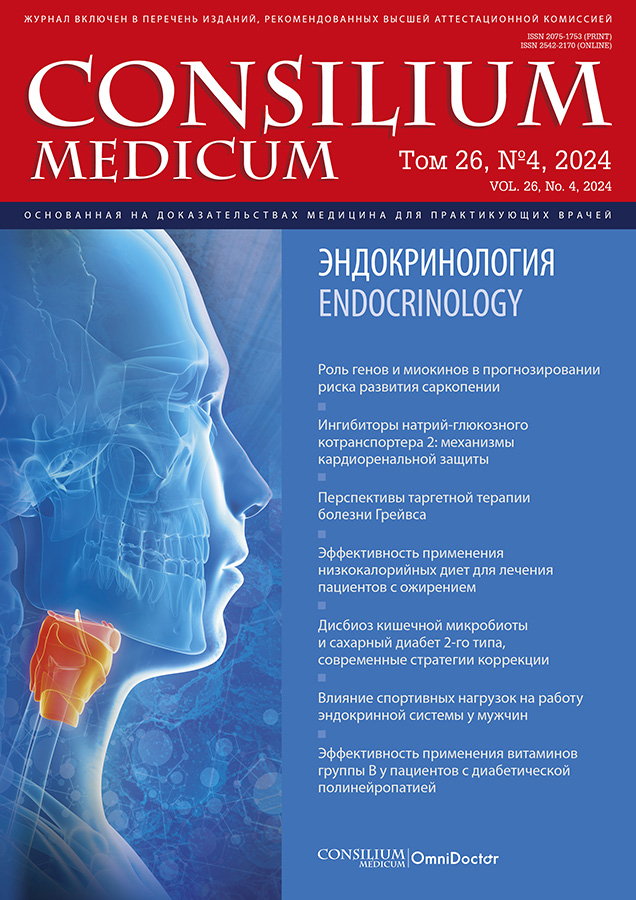Prospects for targeted therapy of Graves' disease: A review
- Authors: Maksim O.V.1, Salukhov V.V.1, Romashevskiy B.V.1
-
Affiliations:
- Kirov Military Medical Academy
- Issue: Vol 26, No 4 (2024): Эндокринология
- Pages: 238-245
- Section: Articles
- Published: 20.05.2024
- URL: https://consilium.orscience.ru/2075-1753/article/view/629009
- DOI: https://doi.org/10.26442/20751753.2024.4.202764
- ID: 629009
Cite item
Full Text
Abstract
The high prevalence of autoimmune thyroid diseases and the low effectiveness of treatment are the great of the reasons for long-term disability and high disability of patients. Significant progress in the study of immunological mechanisms of the development of autoimmune thyroid pathology has been achieved. These findings evidences provide new directions in the treatment of these diseases. Graves' disease is a classic autoimmune disease characterized by the formation of stimulating antibodies to the thyroid-stimulating hormone receptor and manifested by the thyrotoxicosis clinic. The main methods of treating Graves' disease are the conservative thyrostatic therapy, radioiodotherapy and thyroidectomy during past 70 years. At the same time, each of these methods of treatment has its own contraindications adverse invents and it is required new approaches in the treatment of these diseases. Treatment with the use of modern biological drugs makes it possible to selectively affect the main mechanisms of autoimmune damage in Graves' disease with minimal systemic effect on the body. The review examines the main pathogenetic mechanisms of Graves' disease and endocrine ophthalmopathy, as well as highlights the issues of correction of these disorders using targeted therapy.
Full Text
Введение
Высокая распространенность аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (АЗЩЖ) и низкая эффективность лечения – одни из причин длительной нетрудоспособности и высокой инвалидизации пациентов. Наиболее распространенными АЗЩЖ являются аутоиммунный тиреоидит и болезнь Грейвса (БГ), которые встречаются у 2% лиц в общей популяции, преимущественно у женщин [1].
БГ относят к полигенным заболеваниям, при которых генетически обусловленные особенности иммунного реагирования реализуются под влиянием определенных факторов окружающей среды (триггеров), что приводит к нарушению иммунной толерантности (ИТ) к клеткам-мишеням, в частности к тканям ЩЖ [2].
БГ является классическим АЗ, которое характеризуется образованием стимулирующих антител к рецептору тиреотропного гормона (рТТГ) и проявляется клиникой тиреотоксикоза и экстратиреоидными осложнениями. Основные методы лечения БГ не менялись на протяжении последних 70 лет и включают в себя длительный прием тиреостатиков или радикальное лечение – тиреоидэктомию или абляцию ЩЖ с помощью радиоактивного йода [3]. В то же время каждый из приведенных методов лечения имеет свои противопоказания и нежелательные побочные явления (ПЯ), что диктует необходимость поиска новых терапевтических подходов в лечении БГ. Кроме того, у 1/2 пациентов с БГ после отмены тиреостатиков возникает рецидив заболевания (РЗ), а аблация ЩЖ приводит к стойкому гипотиреозу с пожизненной заместительной терапией препаратами левотироксина [1, 4].
Не менее важной клинической проблемой является развитие у пациентов с БГ эндокринной офтальмопатии (ЭОП), что значительно ухудшает качество жизни (КЖ), а в ряде случаев может привести к инвалидизации и потере зрения. Известно, что ЭОП в основном проявляется у пациентов с БГ (80%), но также встречается при аутоиммунном тиреоидите (10%) или может развиться вне связи с заболеванием ЩЖ (10%) [1, 4]. Классическая терапия ЭОП включает неспецифическую иммуносупрессию сверхвысокими дозами (пульс-терапию) глюкокортикоидов (ГК), лучевую терапию орбит, а при отсутствии эффекта и угрозе потери зрения – хирургическое лечение [3]. В то же время традиционная консервативная терапия ЭОП в основном направлена на уменьшение активности воспалительного процесса и не оказывает существенного влияния на органические изменения в тканях орбит.
Одним из перспективных направлений в лечении БГ и ЭОП является использование биологической терапии (БТ), что дает возможность максимально избирательно воздействовать на основные механизмы аутоиммунного повреждения (АП) с минимальным системным влиянием на организм.
Последние отечественные клинические рекомендации по лечению БГ и ЭОП не содержат сведений о возможности рутинного использования таргетной терапии (ТТ). Согласно консенсусу европейской и американской тиреоидных ассоциаций (2022 г.) некоторые группы биологических препаратов (ингибиторы цитокинов и их рецепторов, ингибиторы клеточной пролиферации Т- и В-лимфоцитов, блокаторы рецептора инсулиноподобного фактора роста-1 – рИФР-1) уже используют при среднетяжелом и тяжелом течении ЭОП при отсутствии эффекта от предшествующей терапии ГК [4].
В обзоре рассмотрены основные патогенетические механизмы развития БГ и ЭОП, а также освещены вопросы коррекции приведенных нарушений с использованием ТТ.
Особенности патогенеза БГ и ЭОП
Патогенетические механизмы, лежащие в основе развития БГ и ЭОП, остаются не до конца изученными, однако влияние на них аутоиммунных нарушений не вызывает сомнений [1]. АЗЩЖ начинается с потери ИТ к аутоантигенам ЩЖ и завершается выработкой к ним специфических антител [5, 6].
Ключевым звеном иммунного ответа (ИО) является обработка эпитопов антигена антиген-презентирующими клетками и, в присутствии рецепторов главного комплекса гистосовместимости (MCH), представление его Т-хелперам с соответствующим ответом со стороны иммуноцитов и иных структур. В качестве антиген-презентирующих клеток могут выступать В-лимфоциты, тучные клетки (ТК), дендритные клетки (ДК), а также сами тироциты [7].
Ведущую роль в патогенезе БГ и ЭОП играют аутореактивные Т-лимфоциты, реагирующие на антигены ЩЖ и тканей орбиты [1, 3, 6]. Известно, что для БГ характерна диффузная лимфоцитарная инфильтрация (Т- и В-лимфоцитами) стромы ЩЖ [8]. При этом Т-лимфоциты на фоне генетически обусловленного дефекта ауторегуляции инициируют каскад патологических реакций к тиреоидным антигенам, что приводит к образованию антител к рТТГ (АТ-рТТГ) и антител к рИФР-1 (АТ-рИФР-1). Изменения касаются также функциональной активности регуляторных Т-клеток (Тreg), увеличения субпопуляции эффекторных Т-клеток, Th-17 Т-лимфоцитов, формирования запрещенных клонов Т-лимфоцитов, способных взаимодействовать с В-лимфоцитами и стимулировать гиперпродукцию аутоантител класса иммуноглобулина (Ig)G [6]. Известно, что стимулирующие АТ-рТТГ не только играют ведущую роль в патогенезе БГ, но и являются прогностическими маркерами активности и тяжести ЭОП [1].
В-лимфоциты, представляя эпитопы рТТГ и рИФР-1 Т-лимфоцитам, поддерживают аутоиммунный ответ и модулируют функцию других иммунных клеток через выработку цитокинов и хемокинов [9, 10]. При аутоиммунной патологии ЩЖ наблюдается избыточная экспрессия факторов, активирующих В-клетки (BAFF – В-клеточного активирующего фактора) и его рецепторы, которые экспрессируются на тиреоцитах и интретиреоидных лимфоцитах [11]. ТК и ДК также участвуют в повреждении тироцитов, способствуют развитию и прогрессированию иммунного воспаления [9].
В иммунопатогенезе любого АП важную роль играют цитокин-опосредованные механизмы [12–14]. Цитокины представляют собой антиген-неспецифические факторы, изменение концентрации которых в крови меняется в соответствии с тяжестью воспаления, что определяет прогноз заболевания. Цитокиновый механизм универсален, т.к. практически все клетки организма имеют специфические цитокиновые рецепторы на своей клеточной мембране [15].
Стимулирующие АТ-рТТГ, связываясь с А-субъединицей рТТГ, блокируют регулирующее влияние тиреотропина, приводя к автономной гиперсекреции ТГ и гиперплазии клеток ЩЖ [3, 13]. БГ развивается при связывании стимулирующих АТ-рТТГ с эндотелиальными клетками фолликулов ЩЖ, что инициирует неконтролируемую продукцию тиреоидных гормонов. Одновременно с этим АТ-рТТГ могут активно связываться с рТТГ в тканях орбиты, которые включаются в иммунный процесс при развитии АЗЩЖ [1, 3, 16, 17].
Основную роль в реализации аутоиммунного процесса в ретробульбарной клетчатке при ЭОП играют орбитальные фибробласты (ОФ) [3, 14, 18]. Наибольшую роль отводят фибробластам CD34+, которые экспрессируют на своей мембране рТТГ наравне с эпителиальными клетками ЩЖ. ОФ, в ответ на взаимодействие с АТ-рТТГ, продуцируют медиаторы, активирующие локальное воспаление, адипогенез и пролиферацию мягких тканей орбиты (рис. 1)[19].
Рис. 1. Варианты ТТ ЭОП (адапт. из: [19]).
Рецептор ИФР-1 является ключевым аутоантигеном, участвующим в развитии ЭОП. АТ-рИФР-1 стимулируют ОФ к синтезу интерлейкина (ИЛ)-16 и хемокина RANTES (Regulated on Activation, Normal T-cell Expressed and Secreted) – факторов, повышающих миграцию Т-лимфоцитов в орбиту [18, 19]. Известно, что для пациентов с ЭОП характерен более высокий, чем в норме, уровень экспрессии ИФР-1, рИФР-1 и активирующих АТ-рИФР-1 [18]. Стимуляция рИФР-1 специфическими антителами активизирует синтез гиалуроновой кислоты, провоспалительных цитокинов и хемоаттрактантов [20]. Известно, что формируется интерактивный функциональный комплекс рецепторов (рТТГ/рИФР-1), причем ингибирование рИФР-1 приводит к ослаблению передачи сигналов, инициированных на любом из приведенных рецепторов [18].
В патогенезе ЭОП важную роль отводят способности ОФ экспрессировать CD40 – костимулирующий протеин, присутствующий на поверхности многих типов клеток, включая макрофаги, лимфоциты и тиреоциты [3]. T-хелперы, экспрессирующие на своей мембране протеин CD154 (лиганд CD40), взаимодействуют с ОФ, создавая молекулярный мостик CD40:CD154, что приводит к активации ОФ, пролиферации и последующей дифференцировке [21]. Путь дифференцировки ОФ зависит от внешних сигналов: если преобладает влияние трансформирующего ростового фактора-β, образуется миофибробласт, а в случае доминирования агонистов рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом, стимулируется образование адипоцитов [18].
В активную фазу ЭОП имеется фокальная или диффузная инфильтрация межфибриллярных пространств Т- и В-лимфоцитами, макрофагами и ТК. В условиях избытка провоспалительных цитокинов активная выработка ОФ простагландина Е2 и гидрофильного гиалуронана приводит к отеку ретробульбарных структур [6, 22]. В неактивную фазу ЭОП наблюдаются атрофия и фиброз мышечных пучков с образованием фиброзных волокон в окружающей клетчатке [14].
Концентрация цитокинов позволяет оценить функциональную активность иммунных клеток, тяжесть аутоиммунного воспаления и прогноз заболевания [15, 16, 23]. Основными цитокинами, обеспечивающими прогрессирование аутоиммунного процесса, являются: ИЛ-6 (его угнетающее влияние на Treg приводит к потере аутотолерантности, усиливает дифференцировку B-лимфоцитов и продукцию аутоантител); ИФН-γ (совместно с ИЛ-2 и фактором некроза опухоли – ФНО – участвует в регуляции экспрессии молекул МСН-II и является индуктором клеточного звена иммунитета); ФНО-α (способствует запуску аутоиммунных реакций, усиливая экспрессию молекул адгезии и MCH-II на тироцитах, участвует в регуляции выработки антител, стимулирует пролиферацию специфических Т- и В-лимфоцитов, образующих клоны к различным антигенным эпитопам, а также влияет на синтез гликозаминогликанов фибробластами). Важную роль отводят и цитокинам, имеющим возможность влиять на пул Treg: трансформирующему ростовому фактору-β (регулирует развитие пула Treg и изменяет активность Т-клеточного звена); ИЛ-2 (отвечает за генерацию, выживаемость и функциональную активность пула Treg, влияет на рост, дифференцировку и функциональную активность T- и B-лимфоцитов, натуральных киллеров, моноцитов, макрофагов, определяя длительность ИО). Несомненно, важна роль и ряда противовоспалительных цитокинов. Известно, что выраженность тироксинемии может влиять на концентрацию в крови цитокинов, существенно увеличивая ее у пациентов с некомпенсированным, впервые выявленным тиреотоксикозом [19].
Соответственно, результаты современных исследований показывают общность патогенетических изменений при БГ и ЭОП. Ряд иммунных клеток и цитокинов могут рассматриваться как маркеры тяжести течения заболевания и его исходов и могут быть интересны в качестве мишеней иммунной БТ.
Современные возможности ТТ БГ и ЭОП
Последние достижения в области изучения патогенеза АЗ привели к созданию нового класса лекарственных средств, получивших название «генно-инженерные биологические препараты» (ГИБП), которые представляют собой активные молекулы, точечно воздействующие на ключевые звенья патогенеза аутоиммунных процессов. В рамках стратегии Всемирной организации здравоохранения “Treat to target” – «Лечение до достижения цели» – данный вид терапии стали называть ТТ.
К ГИБП относятся моноклональные антитела (МнАТ) и рекомбинантные белки, механизм действия которых направлен на снижение активности ФНО-α, ИЛ и поверхностных антигенов лимфоцитов, а также патологической активности Т- и В-лимфоцитов.
Согласно современным представлениям ТТ БГ может быть направлена на восстановление ИТ к рТТГ, ингибирование активности рТТГ (в том числе с помощью блокирующих рецептор антител и низкомолекулярных аллостерических инверсионных агонистов и антагонистов рТТГ), а также на снижение активности В-лимфоцитов [3, 4].
Возможности использования ГИБП у больных с БГ активно изучаются в рамках доклинических испытаний и клинических исследований (КИ). Некоторые препараты ТТ уже используются при лечении ЭОП (рис. 2).
Рис. 2. Новые терапевтические подходы в лечении БГ и ЭОП.
Согласно консенсусу европейской и американской тиреодных ассоциаций по лечению ЭОП [4] предлагается использовать ритуксимаб (RTX), тоцилизумаб (TCZ) и тепротумумаб (TEP) в качестве препаратов 2-й линии терапии активной ЭОП тяжелой и умеренной степени, резистентной к пульс-лечению ГК. RTX рекомендуют использовать у пациентов при выраженном поражении ретробульбарных тканей, а TEP наиболее эффективен у пациентов с активной ЭОП умеренной степени при клинически значимом экзофтальме и/или диплопии.
Препараты, влияющие на пул В-лимфоцитов
К препаратам данной группы относят МнАТ, направленные на CD20 позитивные В-лимфоциты. Первоначально приведенные препараты использовали для лечения неходжкинских лимфом, однако в дальнейшем они зарегистрированы как средства для лечения АЗ, включая рассеянный склероз и системную красную волчанку. Наиболее изученным представителем приведенной группы является RTX, механизм действия которого обусловлен стимуляцией апоптоза и цитотоксической гибелью В-лимфоцитов [24] Паванелло. Установлено, что истощение пула циркулирующих В-лимфоцитов происходит в течение нескольких часов после инфузии RTX. Выживаемость плазматических клеток (CD20-отрицательных) и наличие рефрактерных В-клеток памяти в лимфоидных тканях объясняют у некоторых пациентов сохранение ИО на фоне терапии RTX. Предполагают, что В-клетки памяти более устойчивы к RTX по сравнению с наивными В-клетками, что позволяет им участвовать во вторичном ИО [25]. В свою очередь, В-клетки являются терапевтической мишенью для иммуномодулирующего лечения БГ.
Результаты рандомизированных КИ (РКИ) по оценке безопасности и эффективности RTX у больных с БГ неоднозначны в снижении активности ЭОП и профилактике РЗ. В ряде КИ показана эффективность RTX в лечении БГ и ЭОП. Сообщается о достижении стойкой ремиссии БГ в группе RTX по сравнению с пациентами, получавшими монотерапию тиреостатиками. Клинически значимое улучшение наблюдали у пациентов с исходно низким уровнем АТ-рТТГ (медиана 4 МЕ/л) и умеренно выраженной клинической картиной заболевания [26].
В другом исследовании отмечено стойкое улучшение клинической картины и КЖ у 69% больных с активной ЭОП на 24-й неделе терапии RTX в кумулятивной дозе 1000 мг по сравнению с терапией ГК (в кумулятивной дозе 7,5 г) [27]. В то же время в исследовании, проведенном в США, не обнаружено никаких преимуществ RTX по сравнению с плацебо в снижении активности и тяжести ЭОП в течение 52 нед [28]. Отсутствие стойкого эффекта в лечении БГ при монотерапии RTX связывают с тем, что аутореактивные В-клетки памяти и плазматические клетки устойчивы к действию RTX и могут продолжать вырабатывать специфические АТ-рТТГ [3].
В подавляющем большинстве исследований с использованием RTX при БГ не выявлено серьезных ПЯ. В редких случаях терапия RTX может сопровождаться развитием нежелательных явлений (НЯ) в виде реакции на инфузию препарата (першение в горле, заложенность носа), купирующейся при замедлении темпа инфузии и/или введении гидрокортизона. Имеется информация о суставных и желудочно-кишечных симптомах, в частности колите, связанных с циркулирующими иммунными комплексами после использования RTX [27]. Повышение риска серьезной инфекции у пациентов, получавших RTX, происходит лишь при сопутствующем тяжелом иммунодефиците или злокачественных опухолях.
Новые терапевтические молекулы окрелизумаб и офатумумаб обладают меньшей иммуногенностью, лучшей переносимостью, и, возможно, в будущем будут использоваться в терапии БГ [29].
Нарушение активации В-клеток
Препараты, блокирующие взаимодействие с CD40
CD40 – представитель семейства ФНО, обнаруженный на тироцитах и антигенпрезентирующих клетках (в первую очередь на В-клетках), который играет важную роль в осуществлении эффективной презентации антигена [10]. Его лиганд CD154 временно экспрессируется на активированных Т-клетках, а также на неиммунных клетках тканей, участвующих в воспалительном процессе. Взаимодействие CD40:CD154 инициирует костимулирующий путь, необходимый для осуществления адаптивного гуморального ИО. В эксперименте генетическая или химическая модуляция передачи сигналов CD40 влияет на выраженность аутоиммунного процесса, что делает CD40 потенциальной терапевтической мишенью при лечении БГ. Предполагают, что избыточная экспрессия CD40 взаимосвязана с предрасположенностью к БГ [3].
Взаимодействие между В- и Т-лимфоцитами необходимо для формирования интратиреоидного зародышевого центра и созревания пула В-клеток, вырабатывающих патогенные аутоантитела [3].
МнАТ против CD40 – калимаб (CFZ533) – нацелен на костимулирующий путь CD40:CD154 и приводит к ослаблению сигнала активации В-клеток [30]. Искалимаб представляет собой недеплетирующееся (Fc silent) антитело, предназначенное для блокирования взаимодействия с CD40 без удаления CD40-экспрессирующих клеток.
В КИ искалимаба у пациентов с нелеченой БГ [31] продемонстрировано, что 47% пациентов положительно ответили на терапию. Согласно полученным данным у большинства пациентов, принимавших искалимаб, в течение 24 нед сохранялся эутиреоз, а в 27% случаев наблюдалась нормализация уровня стимулирующих АТ-рТТГ. Низкая эффективность искалимаба зарегистрирована у курящих пациентов с исходно высоким уровнем АТ-рТТГ и большим объемом зоба. При применении искалимаба наблюдали снижение количества CD40 на периферических В-клетках на 40%, сохраняющееся в течение последующих 8 нед. При этом уровни сывороточного CXCL13 – хемокина, играющего важную роль в активности интратиреоидного зародышевого центра, также значительно снизились на фоне терапии [3]. Следует отметить, что у 60% пациентов, первоначально ответивших на терапию искалимабом, в дальнейшем наблюдался рецидив тиреотоксикоза, потребовавший приема тиреостатиков.
Установлено, что искалимаб безопасен и хорошо переносится. В открытых источниках отсутствуют данные о зарегистрированных серьезных НЯ, связанных с приемом искалимаба. В то же время, подобно RTX, искалимаб является иммуносупрессором, что допускает возможность инфекционных осложнений. Кроме того, CD40 экспрессируется также на эндотелии сосудов и на тромбоцитах, что не исключает возможный риск тромбоэмболических осложнений.
Открытие участков экспрессии CD40 на ОФ делает возможным использование приведенных препаратов для лечения ЭОП, что требует проведения дополнительных КИ.
Препараты, блокирующие рециркуляцию Ig (FcRn-терапия)
В последние годы появился новый класс препаратов – ингибиторов неонатального Fc-рецептора (FcRn), которые блокируют рециркуляцию Ig, тем самым существенно снижая уровень патогенных антител. Неонатальный Fc-рецептор принимает участие в процессах эндоцитоза, регулирует реутилизацию IgG и обеспечивает его защиту от лизосомальной деградации, а также осуществляет перенос к поверхности клетки и высвобождение в кровоток [32]. В эксперименте мышиные модели с дефицитом FcRn продемонстрировали устойчивость к АЗ, а блокада FcRn привела к улучшению течения аутоиммунного процесса [33]. Возможность ингибирования FcRn является привлекательной терапевтической целью при аутоиммунной патологии, опосредованной IgG, а снижение концентрации циркулирующих в кровотоке АТ-рТТГ оказало бы существенный эффект на течение БГ.
Двумя наиболее изученными препаратами, представляющими класс ингибиторов неонатального FcRn, являются эфгартигимод и розаноликсизумаб [34], находящиеся в настоящее время в фазе III КИ. Эфгартигимод – это человеческий IgG1 – производный фрагмента Fc, в то время как розаноликсизумаб представляет собой гуманизированное МнАТ IgG4 к FcRn. Оба препарата блокируют взаимодействия FcRn:IgG, тем самым угнетая рециркуляцию IgG и ускоряя удаление патогенных аутоантител из кровотока [34].
Эффективное внутривенное применение Ig при ряде АЗ также опосредовано функциональной блокадой Fc-рецепторов, однако новые молекулы – блокаторы FcRn – демонстрируют высокое сродство к рецепторам, что обеспечивает достаточную эффективность при более низких дозировках [35].
Эфгартигимод и розаноликсизумаб вызывали устойчивое снижение циркулирующего уровня IgG на 75–90% как в исследовании на мышиных моделях АЗ (артрит и энцефалит), так и у здоровых добровольцев [35]. Применение эфгартигимода у 12 пациентов с генерализованной миопатипей гравис продемонстрировало снижение до 70% общего уровня IgG и аутоантител к антиацетилхолиновым рецепторам, что сопровождалось быстрым и устойчивым клинически улучшением у 75% получавших лечение по сравнению с 25% в группе плацебо [36]. У пациентов с иммунной тромбоцитопенией, получавших эфгартигимод, снижение общего уровня IgG ассоциировалось со значительным увеличением количества тромбоцитов и снижением риска кровотечения [37]. Аналогичные результаты получены при использовании розаноликсизумаба у пациентов с иммунной тромбоцитопенией и миопатией гравис, в частности достигнуты существенное улучшение клинической картины и снижение уровня аутоантител IgG в среднем на 70% [38].
Оба препарата показали хорошую переносимость. Так, наиболее частым ПЯ являлась легкая головная боль, при этом серьезных НЯ не зафиксировано.
Другие потенциально эффективные лекарственные молекулы данной группы находятся на различных стадиях доклинических и КИ. Применение блокаторов FcRn у пациентов с умеренной и тяжелой ЭОП изучается в рамках фазы II КИ препарата RVT-1401 (NCT03922321) [3].
Препараты, угнетающие пролиферацию и дифференцировку В-клеток
BAFF – представитель семейства цитокинов ФНО, который играет важную роль в активации, дифференцировке и выживании В-лимфоцитов. BAFF является логичной терапевтической мишенью при аутоиммунной патологии, связанной с В-клетками. Повышенные концентрации BAFF в крови обнаружены и у пациентов с активной БГ [11]. Генетические полиморфизмы BAFF также были связаны с предрасположенностью к БГ [3]. Избыточная экспрессия BAFF и его основного рецептора (рBAFF) в интратиреоидных иммунных клетках и тироцитах у пациентов с БГ свидетельствует о роли BAFF в патогенезе АЗЩЖ.
Одним из представителей группы препаратов, подавляющих активность BAFF и его рецептора, является МнАТ к BAFF – белимумаб, обладающий способностью связываться с растворимым BAFF и блокировать его биологическую активность. Блокада взаимодействия BAFF с его рецептором угнетает пролиферацию В-клеток, снижая выработку аутоантител [39].
Белимумаб уже рекомендован для лечения серопозитивной системной красной волчанки. Препарат обладает хорошей эффективностью, переносимостью и безопасностью, не увеличивает риск серьезных инфекций. Имеются единичные данные о повышенном риске психиатрических осложнений [40]. Эффективность и безопасность белимумаба у пациентов с БГ и ЭОП (EudraCT 2015-002127-26) изучают в рамках РКИ.
Следует отметить, что монотерапия препаратами, влияющими на пул В-клеток, не всегда дает стойкий эффект и может приводить к РЗ. Известно, что после истощения пула В-клеток наблюдается резкий скачок концентрации BAFF в крови, что может быть причиной обострения аутоиммунного процесса [39]. Следовательно, одновременное воздействие на процессы пролиферации и дифференцировки В-лимфоцитов, например использование RTX одновременно с белимумабом, может существенно усилить влияние на аутореактивные тканевые В-лимфоциты и привести к более стойкому терапевтическому ответу.
Препараты, влияющие на функцию рТТГ
В настоящее время активно изучаются возможности применения молекул-регуляторов активности рТТГ. Разрабатываются подходы по прерыванию передачи сигналов с рТТГ с помощью малых молекул-антагонистов или антител, блокирующих активацию рецептора. Ожидается, что такая терапия будет максимально эффективной и безопасной для пациента, т.к. специфическое целенаправленное воздействие на рТТГ, в отличие от системной иммунотерапии, позволяет избежать побочных проявлений иммуносупрессии.
Низкомолекулярные антагонисты рТТГ
Низкомолекулярные агонисты и антагонисты потенциально могут непосредственно стимулировать или ингибировать передачу сигналов с рТТГ. Разработана серия соединений, которые ингибируют функцию тиреотропина в качестве обратных агонистов (ингибирующих как базальную передачу сигналов, так и стимулированную агонистами). Среди них наиболее изучено соединение под названием ANTAG-3 [41]. Данная молекула ингибирует стимулированную тиреотропином выработку циклического аденозинмонофосфата in vitro и снижает продукцию тиреоидных гормонов у мышей, получавших тиреотропное МнАТ М22. Два других соединения-антагониста рТТГ (VA-K-14 и S37a) показали способность ингибировать ТТГ-индуцированную передачу сигналов in vitro [42].
Ключевой проблемой использования приведенной группы препаратов является структурная гомология между рТТГ, рецепторами фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона/хорионического гонадотропина, что может приводить к потенциальным нецелевым репродуктивным эффектам.
Все перечисленные соединения взаимодействуют со структурами рТТГ в участках, отличающихся от тех, где осуществляется связывание тиреотропина, и стимулирующих АТ-рТТГ, и, как предполагается, они могут оказывать потенциальный эффект вне зависимости от степени повышения уровня АТ-рТТГ. Ожидается, что данные низкомолекулярные соединения благодаря высокой специфичности окажутся эффективными и безопасными препаратами для длительной пероральной терапии.
Антитела, блокирующие рТТГ
Для вариантов ЭОП, не связанных с гипертиреозом, когда активное воспаление тканей орбиты возникает на фоне гипотиреоза или высоких титров антитиреоидных антител, может возникнуть необходимость не в модуляции, а в блокировании рТТГ.
Получено МнАТ, блокирующее рТТГ, названное K1-70 [43], способное in vitro на мышинной модели полностью подавлять выработку тироксина после введения стимулирующего антитела М22, что указывает на потенциальную эффективность такой молекулы при БГ с высоким уровнем стимулирующих АТ-рТТГ. Имеются данные об эффективном единичном использовании молекулы К1-70 у пациента с метастатическим фолликулярным раком ЩЖ и прогрессирующей ЭОП [43]. Полученные результаты в виде отсутствия прогрессирования опухолевого процесса с устойчивым улучшением симптоматики ЭОП дают позитивные прогнозы применения препаратов данной группы в лечении АЗЩЖ. Продолжаются исследования эффективности и безопасности (NCT02904330) препарата К1-70 у пациентов с нелеченной ранее БГ.
Специфическая иммунотерапия структурными пептидами рТТГ
Как альтернатива иммуносупрессивной терапии для пациентов с АЗ может оказаться эффективной специфическая иммунотерапия, которая успешно используется в аллергологии. Использование малых и постепенно увеличивающихся дозировок растворимого антигена при ауто- агрессии может способствовать повышению ИТ. В настоящее время известно об успешном опыте снижения уровня гликированного гемоглобина и уменьшения потребности в инсулине при недавно диагностированном сахарном диабете 1-го типа у взрослых при повторном введении толерогенных пептидов из молекулы инсулина [44]. Известно о достижении на трансгенной мышиной модели БГ снижения в крови уровня стимулирующих АТ-рТТГ и уровня ТГ после введения пептидов ключевых эпитопов рТТГ [45].
В КИ с использованием пептидной смеси эпитопов рТТГ (под названием ATX-GD-59), которую вводили каждые 2 нед подкожно пациентам с БГ, ранее не получавшим терапии, у 50% отмечалось купирование тиреотоксикоза, у 70% – улучшение клинической симптоматики, при этом снижение уровня АТ-рТТГ достигнуто без каких-либо существенных ПЯ [46].
Препараты, влияющие на функцию рецептора к ИФР-1
Развитие понимания молекулярных основ патогенеза ЭОП привело к разработке нового препарата ТТ – TEP – человеческого МнАТ IgG1, которое с высокой селективностью и аффинностью связывается с рИФР-1.
Рецептор ИФР-1 представляет собой трансмембранный тирозинкиназный рецептор, регулирующий рост и пролиферацию клеток, который участвует в патогенезе ЭОП на нескольких уровнях [47]. Выявлено, что ОФ при ЭОП имеют повышенную в 3–4 раза экспрессию рИФР-1 относительно контрольных ОФ [48], а исследования in vitro показали, что обработка ОФ с помощью ИФР-1 приводит к усилению клеточной пролиферации и индукции синтеза гиалуроновой кислоты в тканях орбиты [49]. Анализ экспрессии генов также предполагает участие рИФР-1 в развитии ЭОП.
TEP, связываясь с рИФР-1, вытесняет ИФР-1 и приводит к интернализации и деградации комплекса рецептор-антитело [48]. Известно, что TEP снижает экспрессию рИФР-1 и рТТГ на поверхности ОФ у пациентов с БГ, а также влияет на синтез ИЛ-6 и ИЛ-8 [50].
Безопасность и эффективность TEP последовательно изучены в 2 РКИ, в которых участвовали 170 пациентов со среднетяжелой и активной ЭОП. Оба исследования продемонстрировали способность TEP устранять диплопию и экзофтальм [50]. Следует отметить, что уменьшение экзофтальма и диплопии у пациентов в обоих исследованиях сопоставимо с эффектами, полученными при хирургическом лечении ЭОП.
TEP стал первым препаратом, одобренным Управлением по контролю пищевых продуктов и лекарств в США для лечения пациентов со средней и тяжелой степенью активной ЭОП. В настоящее время проводится фаза IV РКИ (NCT04583735) по изучению эффективности и безопасности применения TEP у пациентов с неактивной ЭОП [3].
Кроме того, проводится фаза III КИ (Thrive), направленная на оценку эффективности и безопасности использования при ЭОП новой молекулы – МнАТ – к рИФР-1 (VRDN-001), имеющей иные, чем у TEP, фармакологические характеристики.
Антицитокиновая терапия
Учитывая существенную роль цитокин-индуцированных реакций в развитии аутоиммунного воспаления, предложены варианты терапевтического влияния на основные провоспалительные цитокины.
TCZ – гуманизированное МнАТ к рецептору ИЛ-6 (рИЛ-6), которое широко используется при ревматоидном артрите. Кроме участия в активации Т- и В-клеток ИЛ-6 может действовать непосредственно на преадипоциты орбиты [51]. В настоящее время рекомендовано использование TCZ у пациентов при среднетяжелой и тяжелой активной ЭОП, не ответивших на пульс-терапию ГК [4]. Изучаются возможности использования TCZ у пациентов с впервые выявленной ЭОП, что может предупредить появление значимой клинической симптоматики.
Согласно результатам РКИ у пациентов с ЭОП, не ответивших на терапию ГК, на фоне монотерапии TCZ за 3 мес достигнуто существенное снижение активности ЭОП (переход в неактивную стадию среди пролеченных достигнут в 2,5 раза чаще в сравнении с группой контроля) и выраженности экзофтальма [52].
TCZ в целом хорошо переносился, однако отмечена более высокая частота встречаемости инфекционных осложнений (преимущественно мягких тканей) и цефалгии, чем в контрольной группе.
Имеются данные об эффективности использования ингибиторов ФНО в лечении ЭОП, в частности при применении этанерцепта – конкурентного ингибитора связывания ФНО с его рецептором на мембране клетки. Несмотря на уменьшение клинической выраженности симптомов ЭОП более чем в 60% случаев, существенные риски РЗ (более чем в 30%) и развития серьезных побочных проявлений системной иммуносупрессии ограничивают его использование [1].
Известно об успешном применении инфликсимаба (химерного МнАТ к ФНО-α) для лечения ЭОП с угрозой потери зрения [1]. Инфликсимаб, специфично связывая растворимый и трансмембранный ФНО-α, может существенно менять его функциональную активность. В настоящее время данных о проводимых КИ этих препаратов при ЭОП нет.
Нарушение активации Т-клеток
Потенциальное влияние на синтез провоспалительных цитокинов могут оказывать и ингибиторы активации Т-клеток. Обсуждается возможность использования абатацепта (рекомбинатного растворимого гибридного протеина) – модулятора костимулирующего сигнала Т-клеточной активации, однако пока отсутствуют исследования по его применению при АЗЩЖ [1].
Заключение
В настоящее время аутоиммунная патология ЩЖ занимает лидирующее место в структуре тиреоидных эндокринных заболеваний. В то же время традиционные методы лечения БГ в ряде случаев имеют недостаточную эффективность, связанную как с полигенным характером заболевания, так и с несовершенством патогенетических подходов к управлению заболеванием. Кроме того, серьезным ограничением традиционных методов лечения БГ являются многочисленные НЯ, снижающие комплаентность и КЖ пациентов, а также высокий риск РЗ, повышающих частоту осложнений и инвалидизации.
Результаты современных исследований показывают решающую роль иммунной системы в патогенезе БГ и ЭОП, что позволяет разрабатывать более эффективные и безопасные схемы патогенетически обоснованной консервативной терапии. Наиболее перспективным направлением является использование препаратов БТ, позволяющих избирательно воздействовать на основные механизмы АП с минимальным системным влиянием на организм. Несмотря на то что отечественные клинические рекомендации по лечению БГ и ЭОП не содержат сведений о возможности применения ТТ, данные консенсуса европейской и американской тиреоидных ассоциаций рекомендуют использовать RTX, TCZ и TEP в качестве препаратов 2-й линии терапии при активной ЭОП, при этом уже имеется существенная доказательная база эффективного применения подобных препаратов, позволяющих в разной степени снизить активность и выраженность ЭОП и даже риск появления РЗ.
Таким образом, дальнейшее изучение механизмов иммунопатогенеза БГ и ЭОП открывает новые возможности для разработки современных эффективных препаратов ТТ, что в перспективе значительно улучшит КЖ и продолжительность жизни пациентов.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. Все авторы в равной степени участвовали в подготовке публикации: разработка концепции статьи, получение и анализ фактических данных, написание и редактирование текста статьи, проверка и утверждение текста статьи.
Authors’ contribution. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
About the authors
Oksana V. Maksim
Kirov Military Medical Academy
Email: ovmaks1611@mail.ru
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, Saint PetersburgVladimir V. Salukhov
Kirov Military Medical Academy
Author for correspondence.
Email: vlasaluk@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1851-0941
SPIN-code: 4531-6011
D. Sci. (Med.), Prof.
Russian Federation, Saint PetersburgBoris V. Romashevskiy
Kirov Military Medical Academy
Email: vlasaluk@yandex.ru
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Петунина Н.А., Трухина Л.В., Мартиросян Н.С. Эндокринная офтальмопатия: современный взгляд. Проблемы эндокринологии. 2012;6:24-32 [Petunina NA, Trukhina LV, Martirosyan NS. Endocrine ophthalmopathy: state-of-the-art approaches. Problems of Endocrinology. 2012;6:24-32 (in Russian)].
- Шустов С.Б., Халимов Ю.Ш., Салухов В.В., Труфанов Г.Е. Функциональная и топическая диагностика в эндокринологии: руководство для врачей. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017 [Shustov SB, Khalimov IuSh, Salukhov VV, Trufanov GE. Funktsional’naia i topicheskaia diagnostika v endokrinologii: rukovodstvo dlia vrachei. 3-e izd., pererab. i dop. Moscow: GEOTAR-Media, 2017 (in Russian)].
- Lane LC, Cheetham TD, Perros P, Pearce SHS. New Therapeutic Horizons for Graves’ Hyperthyroidism. Endocr Rev. 2020;41(6):873-84. doi: 10.1210/endrev/bnaa022
- Burch HB, Perros P, Bednarczuk T, et al. Management of Thyroid Eye Disease: A Consensus Statement by the American Thyroid Association and the European Thyroid Association. Thyroid. 2022;32(12):1439-70. doi: 10.1089/thy.2022.0251
- Здор В.В., Маркелова Е.В., Гельцер Б.И. Новые участники нарушения толерантности к антигенам щитовидной железы: к концепции иммунопатогенеза аутоиммунных заболеваний щитовидной железы (обзор литературы). Медицинская иммунология. 2016;18(3):209-20 [Zdor VV, Markelova EV, Geltser BI. New players in altered tolerance to thyroid gland antigens: an immunopathogenesis concept of autoimmune thyroid disease (review). Medical Immunology (Russia). 2016;18(3):209-20 (in Russian)]. doi: 10.15789/1563-0625-2016-3-209-220
- Череданова В.Р., Потешкин Ю.Е. Моноклональные антитела в лечении эндокринной офтальмопатии. Вестник офтальмологии. 2021;137(4):116-22 [Cheredanova VR, Poteshkin YE. Monoclonal antibodies in the treatment of thyroid eye disease. Russian Annals of Ophthalmology. 2021;137(4):116-22 (in Russian)]. doi: 10.17116/oftalma2021137041116
- Гельцер Б.И., Здор В.В., Котельников В.Н. Эволюция взглядов на патогенез аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и перспективы их таргетной терапии. Клиническая медицина. 2017;95(6):524-34 [Gel’tser BI, Zdor VV, Kotel’nikov BN. Evolution of the views on pathogenesis of autoimmune thyroid diseases and prospects for their target therapy. Clinical Medicine. 2017; 95(6):524-34 (in Russian)]. doi: 10.18821/002321492017-956524534
- LiVolsi VA, Baloch ZW. The Pathology of Hyperthyroidism. Front Endocrinol (Lausanne). 2018;9:737. doi: 10.3389/fendo.2018.00737
- Yaglova NV, Yaglov VV. Ultrastructural characteristics of molecular release of secretory products from thyroid mast cells induced by lipopolysaccharide. Bull Exp Biol Med. 2013;155(2):260-3. doi: 10.1007/s10517-013-2127-z
- Lee HJ, Lombardi A, Stefan M, et al. CD40 Signaling in Graves Disease Is Mediated Through Canonical and Noncanonical Thyroidal Nuclear Factor κB Activation. Endocrinology. 2017;158(2):410-8. doi: 10.1210/en.2016-1609
- Campi I, Tosi D, Rossi S, et al. B Cell Activating Factor (BAFF) and BAFF Receptor Expression in Autoimmune and Nonautoimmune Thyroid Diseases. Thyroid. 2015;25(9):1043-9. doi: 10.1089/thy.2015.0029
- Максим О.В., Ромашевский Б.В., Демьяненко Н.Ю. Особенности патогенеза заболеваний щитовидной железы при COVID-19. Фарматека. 2023;3:34-43 [Maksim OV, Romashevsky BV, Demyanenco NYu. Features of the pathogenesis of thyroid diseases in COVID-19. Pharmateca. 2023;3:34-43 (in Russian)]. doi: 10.18565/pharmateca.2023.3.34-43
- Кандрор В.И. Механизмы развития болезни Грейвса и действия тиреоидных гормонов. Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2008;4(1):26-34 [Kandror V. Pathogenesis of Graves Disease and Mechanism of Action of Thiroid Hormones. Clinical and Experimental Thyroidology. 2008;4(1):26-34 (in Russian)]. doi: 10.14341/ket20084126-34
- Таскина Е.С., Харинцева С.В., Харинцев В.В., Серкин Д.М. Новые возможности в диагностике эндокринной офтальмопатии (обзор литературы). Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2017;13(3):20-8 [Taskina ES, Charinzeva SV, Charinzev VV, Serkin DM. New opportunities in endocrine ophthalmopathy diagnostics (review). Clinical and Experimental Thyroidology. 2017;13(3):20-8 (in Russian)]. doi: 10.14341/ket2017320-28
- Саприна Т.В., Прохоренко Т.С., Рязанцева Н.В., Ворожцова И.Н. Цитокинопосредованные механизмы формирования аутоиммунных тиреопатий. Клиническая и экспериментальная тиреодология. 2010;6(4):22-7 [Saprina TV, Prochorenko TS, Ryasanzeva NV, Vorochzova IN. Cytokine-dependent mechanisms in development of autoimmune thyroid disorders. Clinical and Experimental Thyroidology. 2010;6(4):22-7 (in Russian)].
- Свириденко Н.Ю., Бессмертная Е.Г., Беловалова И.М., и др. Аутоантитела, иммуноглобулины и цитокиновый профиль у пациентов с болезнью Грейвса и эндокринной офтальмопатией. Проблемы эндокринологии. 2020;66(5):15-23 [Sviridenko NYu, Bessmertnaya EG, Belovalova IM, et al. Autoantibodies, immunoglobulins and cytokine profile in patients with graves’ disease and Graves’ orbitopathy. Problems of Endocrinology. 2020;66(5):15-23 (in Russian)]. doi: 10.14341/probl12544
- Салухов В.В., Ковалевская Е.А. Амиодорон-индуцированный тиреотоксикоз: современный взгляд на проблему. Фарматека. 2023;3:54-63 [Salukhov VV, Kovalevskaya EA. Amiodarone-induced thyrotoxicosis: a modern view of the problem. Pharmateca. 2023;3:54-63 (in Russian)]. doi: 10.18565/pharmateca.2023.3.54-63
- Mohyi M, Smith TJ. IGF1 receptor and thyroid-associated ophthalmopathy. J Mol Endocrinol. 2018;61(1):T29-43. doi: 10.1530/JME-17-0276
- Wang Y, Smith TJ. Current concepts in the molecular pathogenesis of thyroid-associated ophthalmopathy. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2014;55(3):1735-48. doi: 10.1167/iovs.14-14002
- Strianese D, Rossi F. Interruption of autoimmunity for thyroid eye disease: B-cell and T-cell strategy. Eye (Lond). 2019;33(2):191-9. doi: 10.1038/s41433-018-0315-9
- Krajewska-Węglewicz L, Radomska-Leśniewska DM, Dorobek M, et al. Update on pathogenesis and immunology of Graves’ ophthalmopathy. Cent Eur J Immunol. 2018;43(4):458-65. doi: 10.5114/ceji.2018.81360
- Садовская О.П., Дравица Л.В. Современный взгляд на этиологию и патогенез эндокринной офтальмопатии. Проблемы здоровья и экологии. 2019;59(1):9-14 [Sadovskaya OP, Dravitsa LV. Modern View on the Etiology and Pathogenesis of Endocrine Ophthalmopathy. Health and Ecology Issues. 2019;59(1):9-14 (in Russian)].
- Fang S, Huang Y, Wang S, et al. IL-17A Exacerbates Fibrosis by Promoting the Proinflammatory and Profibrotic Function of Orbital Fibroblasts in TAO. J Clin Endocrinol Metab. 2016;101(8):2955-65. doi: 10.1210/jc.2016-1882
- Pavanello F, Zucca E, Ghielmini M. Rituximab: 13 open questions after 20 years of clinical use. Cancer Treat Rev. 2017;53:38-46. doi: 10.1016/j.ctrv.2016.11.015
- Leandro MJ. B-cell subpopulations in humans and their differential susceptibility to depletion with anti-CD20 monoclonal antibodies. Arthritis Res Ther. 2013;15(Suppl. 1):S3. doi: 10.1186/ar3908
- Heemstra KA, Toes RE, Sepers J, et al. Rituximab in relapsing Graves’ disease, a phase II study. Eur J Endocrinol. 2008;159(5):609-15. doi: 10.1530/EJE-08-0084
- Khanna D, Chong KK, Afifiyan NF, et al. Rituximab treatment of patients with severe, corticosteroid-resistant thyroid-associated ophthalmopathy. Ophthalmology. 2010;117(1):133-9.e2. doi: 10.1016/j.ophtha.2009.05.029
- Stan MN, Garrity JA, Carranza Leon BG, et al. Randomized controlled trial of rituximab in patients with Graves’ orbitopathy. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(2):432-41. doi: 10.1210/jc.2014-2572
- Du FH, Mills EA, Mao-Draayer Y. Next-generation anti-CD20 monoclonal antibodies in autoimmune disease treatment. Auto Immun Highlights. 2017;8(1):12. doi: 10.1007/s13317-017-0100-y
- Ristov J, Espie P, Ulrich P, et al. Characterization of the in vitro and in vivo properties of CFZ533, a blocking and non-depleting anti-CD40 monoclonal antibody. Am J Transplant. 2018;18(12):2895-904. doi: 10.1111/ajt.14872
- Kahaly GJ, Stan MN, Frommer L, et al. A Novel Anti-CD40 Monoclonal Antibody, Iscalimab, for Control of Graves Hyperthyroidism-A Proof-of-Concept Trial. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(3). doi: 10.1210/clinem/dgz013
- Smith B, Kiessling A, Lledo-Garcia R, et al. Generation and characterization of a high affinity anti-human FcRn antibody, rozanolixizumab, and the effects of different molecular formats on the reduction of plasma IgG concentration. MAbs. 2018;10(7):1111-30. doi: 10.1080/19420862.2018.1505464
- Patel DA, Puig-Canto A, Challa DK, et al. Neonatal Fc receptor blockade by Fc engineering ameliorates arthritis in a murine model. J Immunol. 2011;187(2):1015-22. doi: 10.4049/jimmunol.1003780
- Zuercher AW, Spirig R, Baz Morelli A, et al. Next-generation Fc receptor-targeting biologics for autoimmune diseases. Autoimmun Rev. 2019;18(10):102366. doi: 10.1016/j.autrev.2019.102366
- Ulrichts P, Guglietta A, Dreier T, et al. Neonatal Fc receptor antagonist efgartigimod safely and sustainably reduces IgGs in humans. J Clin Invest. 2018;128(10):4372-86. doi: 10.1172/JCI97911
- Howard JF Jr, Bril V, Burns TM, et al. Randomized phase 2 study of FcRn antagonist efgartigimod in generalized myasthenia gravis. Neurology. 2019;92(23):e2661-73. doi: 10.1212/WNL.0000000000007600
- Newland AC, Sánchez-González B, Rejtő L, et al. Phase 2 study of efgartigimod, a novel FcRn antagonist, in adult patients with primary immune thrombocytopenia. Am J Hematol. 2020;95(2):178-87. doi: 10.1002/ajh.25680
- Robak T, Kaźmierczak M, Jarque I, et al. Phase 2 multiple-dose study of an FcRn inhibitor, rozanolixizumab, in patients with primary immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2020;4(17):4136-46. doi: 10.1182/bloodadvances.2020002003
- Stohl W, Hiepe F, Latinis KM, et al. Belimumab reduces autoantibodies, normalizes low complement levels, and reduces select B cell populations in patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Rheum. 2012;64(7):2328-37. doi: 10.1002/art.34400
- Jayne D, Blockmans D, Luqmani R, et al. Efficacy and Safety of Belimumab and Azathioprine for Maintenance of Remission in Antineutrophil Cytoplasmic Antibody-Associated Vasculitis: A Randomized Controlled Study. Arthritis Rheumatol. 2019;71(6):952-63. doi: 10.1002/art.40802
- Neumann S, Nir EA, Eliseeva E, et al. A selective TSH receptor antagonist inhibits stimulation of thyroid function in female mice. Endocrinology. 2014;155(1):310-4. doi: 10.1210/en.2013-1835
- Marcinkowski P, Hoyer I, Specker E, et al. A New Highly Thyrotropin Receptor-Selective Small-Molecule Antagonist with Potential for the Treatment of Graves’ Orbitopathy. Thyroid. 2019;29(1):111-23. doi: 10.1089/thy.2018.0349
- Furmaniak J, Ryder M, Castro M, et al. Blocking the TSH receptor with the human monoclonal autoantibody K1-70(TM) improves Graves’ ophthalmopathy and aids control of advanced follicular thyroid carcinoma-results of long-term treatment under the first in human single patient expanded use therapy. Eur Thyroid J. 2018;7(Suppl. 1):Abstract P22.
- Alhadj Ali M, Liu YF, Arif S, et al. Metabolic and immune effects of immunotherapy with proinsulin peptide in human new-onset type 1 diabetes. Sci Transl Med. 2017;9(402). doi: 10.1126/scitranslmed.aaf7779
- Jansson L, Vrolix K, Jahraus A, et al. Immunotherapy With Apitopes Blocks the Immune Response to TSH Receptor in HLA-DR Transgenic Mice. Endocrinology. 2018;159(9):3446-57. doi: 10.1210/en.2018-00306
- Pearce SHS, Dayan C, Wraith DC, et al. Antigen-Specific Immunotherapy with Thyrotropin Receptor Peptides in Graves’ Hyperthyroidism: A Phase I Study. Thyroid. 2019;29(7):1003-11. doi: 10.1089/thy.2019.0036
- Douglas RS. Teprotumumab, an insulin-like growth factor-1 receptor antagonist antibody, in the treatment of active thyroid eye disease: a focus on proptosis. Eye (Lond). 2019;33(2):183-90. doi: 10.1038/s41433-018-0321-y
- Hwang CJ, Eftekhari K. Teprotumumab for Thyroid Eye Disease. Int Ophthalmol Clin. 2020;60(2):47-55. doi: 10.1097/IIO.0000000000000307
- Smith TJ, Hoa N. Immunoglobulins from patients with Graves’ disease induce hyaluronan synthesis in their orbital fibroblasts through the self-antigen, insulin-like growth factor-I receptor. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(10):5076-80. doi: 10.1210/jc.2004-0716
- Douglas RS, Kahaly GJ, Patel A, et al. Teprotumumab for the Treatment of Active Thyroid Eye Disease. N Engl J Med. 2020;382(4):341-52. doi: 10.1056/NEJMoa1910434
- Hamed Azzam S, Kang S, Salvi M, Ezra DG. Tocilizumab for thyroid eye disease. Cochrane Database Syst Rev. 2018;11(11):CD012984. doi: 10.1002/14651858.CD012984.pub2
- Ceballos-Macías José J, Rivera-Moscoso R, Flores-Real Jorge A, et al. Tocilizumab in glucocorticoid-resistant graves orbitopathy. A case series report of a mexican population. Ann Endocrinol (Paris). 2020;81(2-3):78-82. doi: 10.1016/j.ando.2020.01.003