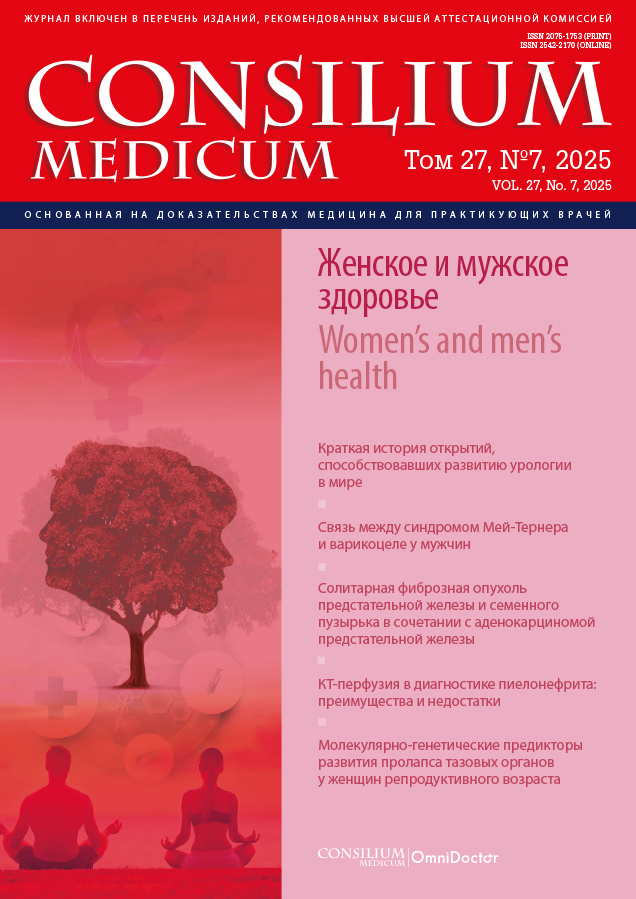Comparison of transrectal and transperineal prostate biopsy: a prospective comparative study
- Authors: Vorobev V.A.1,2, Akperov G.R.3, Baklanova O.V.2,3, Mickevich D.S.3, Kovalev E.V.3, Popov I.P.3, Azizov Z.S.2
-
Affiliations:
- Bashkir State Medical University
- Irkutsk State Medical University
- Regional Oncological Dispensary
- Issue: Vol 27, No 7 (2025): Women’s and men’s health
- Pages: 391-397
- Section: Articles
- Published: 04.08.2025
- URL: https://consilium.orscience.ru/2075-1753/article/view/678911
- DOI: https://doi.org/10.26442/20751753.2025.7.203277
- ID: 678911
Cite item
Full Text
Abstract
Background. Transrectal (TR) prostate biopsy remains the ”gold standard” but is associated with infectious risks; transperineal (TP) biopsy is considered a safer alternative with comparable diagnostic accuracy.
Objective. To compare the diagnostic performance, complication rates, pain levels, and short-term outcomes of TR- and TP-guided prostate biopsies.
Materials and methods. A prospective randomized study included 68 men aged ≥40 years with suspected prostate cancer (PSA>4 ng/mL, positive DRE, and/or PIRADS≥3). Patients were randomized into the TP group (n=53) and the TR group (n=15). A 12-core transrectal ultrasound-guided biopsy was performed with targeted sampling of PIRADS 3–5 lesions. Overall and clinically significant cancer detection rates (Gleason score ≥7), complications (Clavien–Dindo classification), pain using the Visual Analog Scale (VAS), and events within 30 days were analyzed; p<0.05 was considered statistically significant.
Results. Prostate cancer was detected in 72.1% of patients: 75.5% in the TP group and 60.0% in the TR group (p=0.62). Clinically significant cancer accounted for 59.2% of cases (45.3% in TP vs 33.3% in TR; p=0.59). No Clavien grade III or higher complications or cases of urosepsis were observed. Minor complications occurred in 32.1% of TP and 40.0% of TR patients (p=0.69); low-grade fever requiring oral antibiotics (Clavien grade II) was reported only in 3.8% of TP cases. The procedure duration was longer for TP (20.6±5.2 min vs 10.3±3.8 min; p<0.001) but was associated with lower pain scores (2.6±1.1 points vs 4.7±1.5 points; p<0.01); 81% of TP patients rated the pain as minimal. No delayed complications were reported at 30-day follow-up.
Conclusion. Transperineal biopsy provides comparable detection of clinically significant prostate cancer, results in less procedural pain, and demonstrates an absence of severe complications, offering a safe alternative to the TR approach, particularly for patients with a higher risk of infection or difficult-to-access magnetic resonance imaging lesions.
Full Text
Введение
Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей у мужчин. По данным глобальной статистики GLOBOCAN, в 2020 г. в мире зарегистрировано более 1,4 млн новых случаев РПЖ [1]. В структуре онкологической заболеваемости мужчин в России РПЖ занимает 2-е место (после рака легкого) [2]. Расширение программ скрининга (определение подозрительного узла при пальцевом ректальном исследовании – ПРИ, анализ на простат-специфический антиген – ПСА) и широкое внедрение магнитно-резонансной томографии (МРТ) привели к повышению выявляемости локализованного РПЖ на ранних стадиях, что улучшает прогноз заболевания. Морфологическая верификация диагноза по-прежнему считается «золотым стандартом» диагностики РПЖ. Трансректальная биопсия (ТРБ) под контролем трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ) исторически служит основным методом получения биоптатов ПЖ. Стандартная 12-точечная ТРБ широко распространена благодаря относительной технической простоте и возможности выполнения под местной анестезией в амбулаторных условиях. Однако существенный недостаток ТР-доступа – риск инфекционных осложнений из-за прохождения биопсийной иглы через микробно загрязненный просвет прямой кишки [3]. Даже при профилактическом приеме антибиотиков у 1–5% пациентов после ТРБ развивается инфекция, вплоть до сепсиса [4, 5]. За последние десятилетия отмечен рост антибиотикорезистентности (АБР) кишечной флоры, что привело к увеличению частоты госпитализаций с постбиопсийными инфекциями (с 1% в 1996 г. до 5% в 2005 г.) [4]. Кроме того, ТР-метод имеет ограниченные возможности для биопсии передних отделов и верхушки простаты [6] – в этих зонах опухолевые очаги могут быть пропущены при стандартной схемe. Повторные слепые ТРБ (3–4 последовательные процедуры) сопряжены с повышением риска осложнений и снижением комплаенса пациентов [5].
В последние годы все шире внедряется трансперинеальная биопсия (ТПБ) ПЖ. Метод предусматривает доступ к железе через кожу промежности, минуя прямую кишку. Теоретические преимущества ТП-доступа – минимальный инфекционный риск (прокол выполняется через стерильную кожу) и более легкий доступ к труднодоступным зонам (передней строме, верхушке простаты). Ранее ТПБ требовала регионарной или общей анестезии и специализированного оборудования (биопсийной решетки, фиксирующего аппарата) и потому считалась более ресурсоемкой [7]. Однако внедрение методов местной анестезии (пудендального блока, инфильтрации промежности) и так называемой техники free-hand сделало возможным выполнение ТПБ под местной анестезией [7, 8]. Ряд исследований показали, что ТПБ обеспечивает сопоставимые с ТРБ показатели обнаружения рака [7, 9]. При МР-навигации ТП-доступ может повысить точность выявления опухолей, особенно в передних отделах и верхушке простаты [1]. К преимуществам также относят отсутствие необходимости в профилактических антибиотиках (что особенно актуально в эпоху роста АБР) [10, 11]. Таким образом, ТП-метод рассматривается как перспективная альтернатива, способная снизить частоту осложнений без потери диагностической ценности.
Цель исследования – cравнить диагностическую эффективность (в том числе выявление клинически значимых опухолей), частоту осложнений, переносимость и краткосрочные (в течение 1 мес) результаты ТРБ и ТБП ПЖ.
Гипотеза – ТПБ не уступает ТРБ по выявляемости РПЖ, при этом характеризуется меньшей частотой инфекционных осложнений и лучшей переносимостью. Дополнительно анализировалось, влияют ли клинические факторы (ПСА, данные ПРИ, результаты МРТ) на результаты биопсии при разных методах доступа.
Материалы и методы
В исследование включены 68 пациентов, удовлетворяющих критериям, ни один не исключен после скрининга. Пациенты рандомизированы на 2 группы: 53 направлены на ТПБ, 15 – на ТРБ. Все 68 пациентов успешно прошли процедуру биопсии и наблюдение, выпадений из наблюдения не было. На рис. 1 представлена блок-схема дизайна исследования.
Рис. 1. Блок-схема распределения и исходов пациентов в исследовании (STROBE). Все 68 включенных пациентов разделены на группы ТПБ (n=53) и ТРБ (n=15). Оба метода завершены у всех пациентов без потерь для анализа.
Дизайн исследования. Проведено проспективное одноцентровое сравнительное исследование с рандомизацией. Период включения: июль 2023 г. – февраль 2025 г. (набор продолжался на момент анализа). Критерии включения: мужчины ≥40 лет с показаниями к первичной или повторной биопсии ПЖ: ПСА>4 нг/мл и/или подозрительный узел при ПРИ, и/или очаг PIRADS≥3 по данным МРТ. Критерии невключения: острый клинически выраженный простатит, тяжелые сопутствующие заболевания, делающие биопсию небезопасной (некорригированное нарушение свертываемости, декомпенсированные заболевания сердца/легких), отказ пациента от участия. Все пациенты подписали информированное согласие, протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО ИГМУ. Объем выборки: 68 пациентов, полностью удовлетворяющих критериям, из них 53 перенесли ТПБ (группа ТП), 15 – ТРБ (группа ТР). Асимметрия размеров групп связана с продолжающимся набором в группу ТР. Рандомизация осуществлялась блоками, сопоставимость групп обеспечена по ключевым параметрам.
Характеристики пациентов. Средний возраст пациентов составил 68,2±6,5 года (69,6 года в группе ТР vs 67,1 года в группе ТП; p>0,05). Медиана уровня ПСА – 7,9 нг/мл (6,3 нг/мл в группе ТР vs 9,1 нг/мл в группе ТП; p>0,05). Средний объем ПЖ по МРТ – 42±15 см³ (различий между группами нет). У 35 (51%) пациентов пальпировалось подозрительное уплотнение при ПРИ (46,7% в ТР vs 52,8% в ТП; p=0,80). Всем пациентам перед биопсией выполнена МРТ: у 48 (90,6%) пациентов группы ТП и 15 (100%) группы ТР имелись подозрительные очаги PIRADS 4–5 (p=0,81); остальные случаи соответствовали PIRADS 1–3. Предшествующая отрицательная биопсия простаты в анамнезе отмечена у 23 (33,8%) пациентов (у 22 – в группе ТП, у 1 – в группе ТР), что отражает более частое применение ТП-метода при повторных биопсиях.
Процедура биопсии. Перед каждой биопсией выполняли ТРУЗИ с измерением объема простаты. Пациенты группы ТР проводили биопсию в литотомическом положении, группы ТП – на спине с поднятыми и разведенными ногами (в фиксаторах). При ТРБ применялась местная анестезия – парапростатическое введение 1% лидокаина, 10 мл с каждой стороны. Всем пациентам группы ТР профилактически назначали антибиотик (фторхинолон или цефалоспорин) за 1 ч до процедуры (стандарт для предупреждения инфекций при трансанальном доступе). В группе ТП рутинная антибиотикопрофилактика не использовалась. Антибиотик назначался только при наличии факторов риска по усмотрению врача. Анестезия при TPБ: инфильтрация места прокола 10 мл 0,25% ропивакаина (либо 1% лидокаина) по ходу будущего канала, при необходимости – дополнительная перипростатическая анестезия. Биопсии выполнялись одним оператором, имеющим опыт >50 процедур каждого типа, с помощью автоматического биопсийного пистолета и одноразовых игл 18G. В группе ТР всем пациентам выполнена стандартная секстантная биопсия не менее чем из 12 точек (базальных, средних отделов и верхушки обеих долей), в группе ТП – шаблонная биопсия не менее чем из 12 зон периферической зоны. При наличии по МРТ очага PIRADS 3–5 дополнительно проводилась таргетная биопсия этого очага: в группе ТР – когнитивная (визуальный контроль УЗИ с учетом локализации по МРТ), в группе ТП – когнитивная либо с использованием бипланового ТРУЗИ-датчика через промежность. Общее число полученных биоптатов фиксировалось для каждого пациента. В среднем получено 13,1±1,2 столбика ткани в группе ТР, 17,8±4,0 – в группе ТП (p<0,01), что отражает добавление таргетных биопсий МР-очагов и более широкое покрытие периферической зоны при ТП-доступе (у некоторых пациентов с повторной биопсией выполнялась расширенная «сатурационная» выборка >12 точек). Все образцы направлялись на гистологическое исследование с определением суммы Глисона. Клинически значимым раком считали аденокарциному с Глисоном ≥7 (ISUP grade group ≥2).
Оценка осложнений и наблюдение. Во время и сразу после процедуры регистрировали нежелательные явления (кровотечение, вазовагальные реакции и пр.). После биопсии все пациенты получали стандартные рекомендации: обильное питье, антибиотики при признаках инфекции, контроль диуреза. На время процедуры всем пациентам устанавливался уретральный катетер, удаляемый через 24 ч. Контрольные осмотры проводились через 5–10 дней и через 2–3 нед после биопсии с оценкой самочувствия и выявления осложнений. Осложнения классифицированы по Clavien–Dindo: класс I – минимальные (не требующие терапии, например кратковременная гематурия); II – требующие медикаментозного лечения (например, симптоматическая инфекция, требующая антибиотика); III – требующие инвазивного вмешательства (IIIa – без наркоза, IIIb – под наркозом); IV – угрожающие жизни (например, сепсис, требующий интенсивной терапии); V – смерть. Болевые ощущения оценивались у всех пациентов во время и через 30 мин после биопсии по Визуальной аналоговой шкале (ВАШ): 0 – нет боли, 10 – невыносимая боль. Также фиксировалось время от начала до окончания взятия биоптатов (продолжительность процедуры).
Статистический анализ. Данные представлены в виде среднего ± стандартного отклонения или медианы (интерквартильного размаха) для количественных показателей, в виде частот (%) – для категориальных. Сравнение долей между группами выполнено при помощи точного критерия Фишера. Количественные показатели сравнивались с помощью t-критерия Стьюдента (при нормальном распределении) или U-критерия Манна–Уитни. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. Анализ выполнен в IBM SPSS Statistics v26, программном пакете R.
Результаты
Характеристика групп и образцов. Группы не различались по возрасту и предбиопсийным факторам (p>0,05); табл. 1. Средний объем простаты составлял 42 см³ (без различий). Показатели ПСА>10 нг/мл отмечены у 20 (37,7%) пациентов в группе ТП и 5 (33,3%) в группе ТР (p=0,83). Подозрительные очаги PIRADS 4–5 на МРТ выявлены у 48 (90,6%) в группе ТП и 15 (100%) в группе ТР (p=0,81), т.е. группы сопоставимы по основным предикторам рака. Общее число взятых биоптатов было выше в ТП-группе (17,8 против 13,1; p<0,01) за счет таргетных проб и расширенной схемы при повторных биопсиях.
Таблица 1. Исходные характеристики пациентов в группах ТПБ и ТРБ
Показатель | ТП (n=53) | ТР (n=15) | p |
Возраст, лет (M±SD) | 67,1±6,3 | 69,6±7,1 | 0,40 |
ПСА, нг/мл (медиана, IQR) | 0,27 | ||
Объем простаты, см³ (M±SD) | 43±16 | 39±14 | 0,50 |
Пальпируемый узел при ПРИ | 28 (52,8%) | 7 (46,7%) | 0,80 |
Очаг PIRADS≥4 на МРТ | 48 (90,6%) | 15 (100%) | 0,81 |
Предыдущая отрицательная биопсия | 22 (41,5%) | 1 (6,7%) | 0,053* |
Примечание. p<0,05 – статистически значимо, IQR – межквартильный размах; *предыдущая отрицательная биопсия чаще встречалась в группе ТП, поскольку повторные биопсии преимущественно проводились трансперинеально.
Диагностическая эффективность. По данным гистологии, аденокарцинома ПЖ обнаружена у 49 (72,1%) из 68 пациентов. В группе ТП рак выявлен у 40 из 53 (75,5%), в группе ТР – у 9 из 15 (60,0%); разница статистически незначима [p=0,625; относительный риск для ТП 1,26, 95% доверительный интервал (ДИ) 0,77–2,06]; табл. 2. Клинически значимый рак (Глисон ≥7) обнаружен в 29 (59,2%) из 49 выявленных опухолей. Доля клинически значимого рака среди всех пациентов составила 45,3% (24/53) в группе ТП против 33,3% (5/15) в группе ТР (p=0,591), т.е. ТПБ не уступала ТРБ по способности диагностировать значимые опухоли. Анализ субгрупп по данным МРТ и ПРИ подтвердил ожидаемые тенденции: при поражениях PIRADS 5 рак подтвержден у 15 из 17 пациентов (88,2%), при PIRADS 4 – у 22/31 (71,0%), при PIRADS 3 – у 4/10 (40,0%). Практически все опухоли при PIRADS 5 были клинически значимыми, тогда как при PIRADS 3 три из 4 оказались низкого риска по шкале Глисона (6 баллов). У 2 пациентов с «негативной» МРТ (PIRADS 1–2) биопсия выявила рак 6 баллов по шкале Глисона (оба – в группе TP), что подтверждает необходимость биопсии при стойко повышенном ПСА даже без МР-признаков. Наличие пальпируемого узла при ПРИ не повышало вероятности выявления рака: среди 35 пациентов с ПРИ(+) рак диагностирован у 28 (80,0%) против 21 из 33 (63,6%) пациентов при отрицательном ПРИ (p=0,543). Уровень ПСА слабо коррелировал с результатами: при ПСА>10 нг/мл рак обнаружен в 85,7% случаев, при 4–10 нг/мл – в 66,7% (p>0,05). Таким образом, классические предикторы (ПСА, ПРИ, PIRADS) оказали ожидаемое влияние на частоту выявления РПЖ без различий между методами биопсии.
Таблица 2. Результаты биопсии и осложнения (сравнение групп)
Показатель | ТП (n=53) | ТР (n=15) | p |
Обнаружен рак простаты, абс. (%) | 40 (75,5) | 9 (60,0) | 0,625 |
Клинически значимый рак (Глисон ≥7) | 24 (45,3) | 5 (33,3) | 0,591 |
Среднее число биоптатов, шт. | 17,8±4,0 | 13,1±1,2 | <0,01 |
Длительность процедуры, мин | 20,6±5,2 | 10,3±3,8 | <0,001 |
Боль (ВАШ, баллов сразу после процедуры) | 2,6±1,1 | 4,7±1,5 | <0,01 |
Осложнения Clavien–Dindo I, абс. (%) | 17 (32,1) | 6 (40,0) | 0,691 |
Осложнения Clavien–Dindo II, абс. (%) | 2 (3,8) | 0 (0) | 0,453 |
Осложнения Clavien–Dindo III–V, абс. (%) | 0 | 0 | – |
Примечание. Боль оценена по ВАШ (0–10) через 30 мин после биопсии. Clavien I – легкие самоограничивающиеся осложнения, II – требующие медикаментозного лечения; III–V – серьезные (в нашем исследовании отсутствовали в обеих группах).
Осложнения и переносимость. Серьезных интра- или постоперационных осложнений (III–V класса) не возникло ни в одной группе, ни один пациент не потребовал неотложной госпитализации. Легкие осложнения (I класса) зафиксированы у 23 пациентов: 17 (32,1%) в группе ТП vs 6 (40,0%) в группе ТР (p=0,691). Эти осложнения включали кратковременную тотальную гематурию, гематоспермию, умеренные дизурические явления или тазовые боли в первые сутки, не требовавшие активного лечения и прошедшие самостоятельно. У 4 (7,5%) пациентов в группе ТП и 2 (13,3%) в группе ТР наблюдалось повышение температуры до 37,5–38°C в день процедуры, купировавшееся самостоятельно, что расценено как асептическая воспалительная реакция (случаи учтены как Clavien I). Осложнения II класса (требующие терапии) отмечены только у 2(3,8%) пациентов в группе ТП – им назначены пероральные антибиотики на 5–7 дней в связи с субфебрильной температурой и дизурией, госпитализация не потребовалась. Во всех 15 случаях группы ТР проводилась антибиотикопрофилактика, и ни у одного не развилась инфекция, требующая лечения. Случаев острого бактериального простатита, бактериемии или септического шока в обеих группах не зарегистрировано. Ни одному пациенту не потребовалось хирургическое вмешательство или повторная катетеризация мочевого пузыря. Переносимость процедуры была лучше при ТП-доступе. Средний балл боли по ВАШ сразу после биопсии составил 2,6±1,1 в группе ТП против 4,7±1,5 в группе ТР (p<0,01); 81% пациентов ТП-группы охарактеризовали боль как минимальную (0–3 балла), тогда как в ТР-группе только 53% отметили минимальную боль, ни один пациент ТП не указал боль >6 баллов, тогда как в группе ТР 3 (20%) пациента сообщили о боли 7–8 баллов (умеренной интенсивности). Несмотря на инвазивность промежностного доступа, адекватное обезболивание обеспечило лучшую переносимость по сравнению с ТР-доступом. Продолжительность процедуры была существенно больше при ТПБ: в среднем 21 мин против 10 мин при ТРБ (p<0,001). Это связано с более сложной подготовкой (обработкой поля, анестезией промежности, настройкой шаблона) и большим количеством биоптатов. Тем не менее ни в одном случае процедура не превысила 30 мин и переносилась удовлетворительно. Интраоперационная кровопотеря минимальна в обеих группах.
Отсроченные исходы. Все 68 пациентов наблюдались ≥1 мес после биопсии. Ранние осмотры (5–10-й день) не выявили осложнений, требующих вмешательства. У 2 пациентов группы ТП сохранялась слабая гематурия до 7-го дня, разрешившаяся самостоятельно (без признаков анемии). В позднем периоде (7–30-е сутки) осложнений не отмечено, Ни у одного пациента не возникло острой задержки мочи или абсцесса простаты по данным контрольного осмотра и ТРУЗИ через 1 мес. Таким образом, через 30 дней оба метода биопсии не имели нежелательных исходов. Все 19 пациентов с отрицательным результатом биопсии находятся под динамическим наблюдением. На момент подготовки статьи ни у одного не выявлено прогрессирования (повышения ПСА>20% от исходного либо появления новых подозрительных изменений).
Анализ факторов риска инфекций. Дополнительно проведен анализ, влияют ли клинические переменные на риск инфекций после биопсии. В логистическую регрессионную модель включены метод биопсии (ТР vs ТП), число полученных биоптатов, наличие предшествующей биопсии, возраст, уровень ПСА и PIRADS. Модель не выявила статистически значимых предикторов инфицирования: коэффициент при количестве биоптатов близок к 1 [отношение шансов (ОШ) 1,01 на каждый дополнительный столбик; p>0,9], что указывает на отсутствие влияния объема материала на риск инфекции. Наибольшие, хотя и незначимые ОШ имели ТР-методика (ОШ 4,8 сравнительно с ТП; p=0,21) и наличие предшествующей биопсии (ОШ 4,3; p=0,20). Однако широкие ДИ и высокие значения p свидетельствуют, что эти факторы не достигли статистической значимости. Возраст, ПСА и PIRADS также оказались незначимы. В табл. 3 представлены результаты логистической регрессии по выявлению факторов риска инфекционных осложнений (Clavien–Dindo≥ II) после биопсии простаты. Для каждого предиктора указаны ОШ с 95% ДИ и значение p.
Таблица 3. Результаты логистической регрессии по выявлению факторов риска инфекционных осложнений
Предиктор | ОШ | 95% ДИ | p |
Метод биопсии (ТРБ vs ТПБ) | 4,8 | 0,7–34,0 | 0,21 |
Количество биоптатов (за каждый дополнительный) | 1,01 | 0,90–1,15 | 0,93 |
Наличие предыдущей биопсии (да vs нет) | 4,3 | 0,5–40,0 | 0,20 |
Категория PIRADS (за увеличение на 1) | 1,17 | 0,6–2,3 | 0,63 |
Уровень ПСА (на 1 нг/мл) | 1,01 | 0,94–1,09 | 0,65 |
Возраст (за 1 год) | 1,00 | 0,93–1,08 | 0,97 |
Примечание. Ни один из перечисленных факторов не продемонстрировал статистически значимого влияния на риск инфекционных осложнений (все p>0,05).
Прогностическая способность модели была умеренной (AUC 0,72). Применение однослойной нейросети (5 нейронов скрытого слоя) подтвердило эти выводы: наибольшие веса были у признаков «трансректальная биопсия» и «предшествующая биопсия», тогда как признак «число биоптатов» имел минимальный вес. Точность модели нейросети (AUC 0,74) лишь незначительно превышала логистическую. Таким образом, ни логистический, ни нейросетевой анализ не выявили скрытых влияний объема выборки на риск инфекции: определяющими оставались метод биопсии и наличие предшествующей биопсии, причем в данной выборке их эффект статистически не доказан из-за малого числа инфекционных событий. ROC-кривые для выполненного анализа представлены на рис. 2.
Рис. 2. ROC-кривые моделей прогнозирования инфекционных осложнений. Синим цветом показана ROC-кривая логистической регрессии (AUC 0,72), красным – нейронной сети (AUC 0,74). Пунктирная диагональная линия соответствует случайному угадыванию (AUC 0,5). Видно, что обе модели имеют близкую площадь под кривой, немного превышающую 0,7, что свидетельствует об их умеренной точности.
Обсуждение
В этом проспективном исследовании показано, что ТПБ ПЖ не уступает ТРБ по диагностической ценности и профилю безопасности. Полученные результаты согласуются с данными литературы. Ранее проведенный метаанализ P. Shen и соавт. (2012 г.) также не выявил значимых различий в общей выявляемости рака и частоте осложнений между ТП- и ТР-доступом [9]. В нашем исследовании общий процент обнаружения РПЖ в группах (75,5% vs 60,0%) сопоставим с литературными данными для сходной категории пациентов [7]. Высокая абсолютная частота выявления рака объясняется отбором пациентов с высокой вероятностью РПЖ (большинство имело PIRADS 4–5 или положительный ПРИ). Важно подчеркнуть, что ТПБ не уступает ТРБ именно в обнаружении клинически значимого рака – ключевого показателя эффективности, что подтверждает ее диагностическую полноценность. Некоторые исследования отмечают даже преимущество ТП-доступа в детекции опухолей в определенных зонах. В работе S. Tewes и соавт. сравнивались МРТ-таргетированные биопсии двумя методами у 154 пациентов: выявляемость любого рака и значимого рака составила 69 и 86% для ТР-доступа против 84 и 86% для ТП-доступа соответственно в пользу последнего (при сходных общих показателях) [12]. Авторы связали более высокий процент выявления при ТП-доступе с лучшей визуализацией и доступом к верхушке простаты. Наши данные также указывают на несколько большую (хотя статистически незначимую) долю выявленных опухолей при TPБ, несмотря на то что в эту группу входило много пациентов с ранее отрицательными биопсиями (что обычно затрудняет повторное обнаружение опухоли). Вероятно, ТП-техника позволяет частично компенсировать проблему пропущенных очагов при повторной биопсии в связи с более равномерным охватом объема железы. Ключевым преимуществом ТПБ, отмечаемым в литературе, является снижение риска инфекционных осложнений [10]. ТР-доступ предполагает прохождение иглы через кишечник, что чревато заносом флоры в простату и кровоток. Даже при профилактическом применении антибиотиков остается риск развития постбиопсийного сепсиса до 1–3%, особенно на фоне резистентности флоры [10]. Многие авторы отмечают рост случаев уросепсиса после ТР-биопсий и призывают к переходу на ТП-доступ (Trexit – Transperineal Exit). В недавно опубликованном крупном рандомизированном исследовании (B. Mian и соавт., 2024 г.) сравнили осложнения у 718 пациентов после ТРБ vs ТПБ и не выявили различий: частота инфекций составила 2,6% vs 2,7%, не было ни одного случая сепсиса [13]. Однако в той работе всем пациентам ТР-группы выполнялась усиленная профилактика (таргетная антибиотикотерапия), что позволило снизить риск до уровня ТП. В реальной практике, особенно вне стационара, обеспечить столь же эффективную профилактику затруднительно. Наши результаты демонстрируют нулевую частоту значимых инфекций в группе TP без рутинных антибиотиков. Хотя двум пациентам ТП-группы потребовался курс антибиотика из-за лихорадки, эти эпизоды были легкими (Clavien II) и могли быть асептическими. В группе ТР ни у кого не развилась инфекция, но всем были предварительно назначены антибиотики, что соответствует стандартам и, вероятно, предотвратило осложнения. Таким образом, при соблюдении оптимальной профилактики оба метода могут быть достаточно безопасными, но ТП-подход позволяет избежать ненужной антибиотикотерапии и связанных с ней побочных эффектов затрат, что в условиях роста АБР является существенным преимуществом, отмечаемым многими исследователями [1].
Другим важным отличием стала переносимая боль. Считается, что ТПБ более болезненна, так как требует множественных проколов кожи, глубокой инфильтрации тканей промежности и нередко выполняется под спинальной или общей анестезией [7]. Однако в нашем исследовании, где использовалась тщательная местная анестезия точки входа и перипростатических пучков, пациенты ТП-группы отмечали даже меньшую боль, чем при ТР-процедуре. Вероятно, это связано с тем, что при ТРБ, несмотря на местную анестезию, ряд проколов в области верхушки простаты может быть болезненным, а сам ректальный датчик вызывает дискомфорт. При ТП-подходе, напротив, после адекватного обезболивания промежности болевые окончания прямой кишки не задействуются, пациент ощущает только давление. Наш опыт согласуется с сообщениями о возможности выполнения ТПБ под местной анестезией с переносимостью, сопоставимой с ТРБ [7]. Тем не менее ТП-процедура – более длительная и трудоемкая, что подтвердилось большим временем проведения (в среднем 20 мин против 10 мин). В условиях ограниченного времени при массовом скрининге это можно считать относительным недостатком. С другой стороны, разница в 10–15 мин не критична при плановой работе, тем более с учетом потенциальной экономии времени на лечение осложнений при ТП (их меньше, чем при ТР). Важно учитывать и кривую обучения: освоение ТП-техники требует опыта – в нашем центре первые процедуры занимали до 30–40 мин, постепенно сократившись до 20 мин. Опыт ТРБ у оператора исследования превышает 1 тыс. процедур, что, вероятно, сказалось на меньшей длительности стандартной процедуры.
Ограничения нашего исследования включают относительно небольшой объем выборки, особенно группы ТР (15 пациентов). Это снижает статистическую мощность при сравнении некоторых исходов, например различие в выявляемости рака при p=0,625 могло не достичь значимости из-за недостаточного числа пациентов. Кроме того, выбранный метод рандомизации мог привести к смещению: группа ТП включала больше пациентов после предшествующих отрицательных биопсий, что могло снизить совокупную выявляемость в этой группе (тем более примечательно, что она все равно не оказалась ниже, чем в группе ТР). В идеале сравнение следовало бы проводить на полностью рандомизированной выборке биопсий-наивных пациентов, однако этические и организационные трудности не позволили реализовать строгую рандомизацию. Еще одним ограничением можно считать краткий период наблюдения (1 мес) – мы не оцениваем отдаленные последствия, такие как влияние пропущенных опухолей на исходы. Однако, учитывая, что всем пациентам с отрицательной биопсией выполнена МРТ и они остаются под наблюдением, вероятность пропустить значимый рак мала. Наконец, следует отметить, что использован гибридный дизайн биопсии (сочетание систематической и таргетной по МРТ), что соответствует современным рекомендациям, но затрудняет прямое сопоставление с результатами более старых работ, где выполнялась только слепая систематическая биопсия. Тем не менее полученные выводы актуальны для современной парадигмы биопсии, нацеленной на клинически значимый рак с учетом данных МРТ.
Заключение
ТПБ ПЖ демонстрирует высокую диагностическую эффективность, эквивалентную традиционной ТРБ, включая выявление клинически значимых форм рака. При этом ТП-доступ практически устраняет риск тяжелых инфекционных осложнений – в нашем опыте не отмечено ни одного случая сепсиса или госпитализации, тогда как при ТР-доступе подобные осложнения предотвращались только благодаря обязательной АБП. Переносимость ТП-процедуры не хуже, а по болевым ощущениям – даже лучше, чем при ТР, при условии адекватного местного обезболивания. Основной относительный недостаток TP-метода – большая продолжительность и необходимость обучения персонала, однако это компенсируется повышенной безопасностью для пациента. С клинической точки зрения результаты свидетельствуют о том, что ТПБ можно рекомендовать в качестве предпочтительного метода получения ткани простаты, особенно у пациентов с высоким риском инфекций (с сахарным диабетом, носительством резистентной флоры, аллергией на антибиотики) и у людей с отрицательной предшествующей биопсией, когда требуется более широкое «профилирование» ткани. Внедрение TP-доступа позволит снизить применение антибиотиков и вклад в АБР, что согласуется с общемировой тенденцией повышения безопасности онкологических диагностических процедур. Перспективы дальнейших исследований включают рандомизированные многоцентровые исследования для окончательной оценки преимуществ TPБ в разных популяциях, а также экономический анализ (учет затрат на профилактику и лечение осложнений). Кроме того, с развитием методов визуализации ожидается усиление роли МР-таргетной биопсии. В этом контексте ТП-доступ может стать еще более востребованным, обеспечивая оптимальную точность при минимальных рисках. Стоит отметить, что ТПБ ПЖ зарекомендовала себя как надежный и безопасный метод диагностики рака простаты, обладающий существенными преимуществами в эпоху персонифицированной медицины и роста АБР.
Раскрытие интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Disclosure of interest. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Авторы декларируют соответствие своего авторства международным критериям ICMJE. В.А. Воробьев – концептуализация, методология, формальный анализ, написание – рецензирование и редактирование, управление проектом, надзор; Г.Р. Акперов – исследование, написание – первоначальный вариант, визуализация; О.В. Бакланова – исследование, написание – первоначальный вариант, формальный анализ; Д.С. Мицкевич – исследование, Е.В. Ковалев – исследование, И.П. Попов – исследование, З.С. Азизов – визуализация.
Authors' contributions. The authors declare the compliance of their authorship according to the international ICMJE criteria. V.A. Vorobev – conceptualization, methodology, formal analysis, writing – review, editing, project administration, supervision; G.R. Akperov – research, writing – original draft, visualization; O.V. Baklanova – research, writing – original draft, formal analysis; D.S. Mitskevich – research, E.V. Kovalev – research, I.P. Popov – research, Z.S. Azizov – visualization.
Источник финансирования. Авторы декларируют отсутствие внешнего финансирования для проведения исследования и публикации статьи.
Funding source. The authors declare that there is no external funding for the exploration and analysis work.
Соответствие принципам этики. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО ИГМУ (протокол №3 от 15.11.2019). Одобрение и процедуру проведения протокола получали по принципам Хельсинкской декларации.
Compliance with the principles of ethics. The study protocol was approved by the local ethics committee of Irkutsk State Medical University (protocol №8 dated 15.11.2019). Approval and protocol procedure was obtained according to the principles of the Declaration of Helsinki.
Информированное согласие на публикацию. Пациенты подписали форму добровольного информированного согласия на публикацию медицинской информации.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patients for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
About the authors
Vladimir A. Vorobev
Bashkir State Medical University; Irkutsk State Medical University
Author for correspondence.
Email: denecer@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-3285-5559
D. Sci. (Med.)
Russian Federation, Ufa; IrkutskGadir R. Akperov
Regional Oncological Dispensary
Email: denecer@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0000-6317-3898
urologist, oncologist
Russian Federation, IrkutskOlga V. Baklanova
Irkutsk State Medical University; Regional Oncological Dispensary
Email: denecer@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2331-506X
Cand. Sci. (Med.)
Russian Federation, Irkutsk; IrkutskDmitry S. Mickevich
Regional Oncological Dispensary
Email: denecer@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-5142-9200
oncologist
Russian Federation, IrkutskEgor V. Kovalev
Regional Oncological Dispensary
Email: denecer@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-4789-6927
urologist
Russian Federation, IrkutskIvan P. Popov
Regional Oncological Dispensary
Email: denecer@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9919-4129
urologist
Russian Federation, IrkutskZahir S. Azizov
Irkutsk State Medical University
Email: denecer@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0002-3727-3355
Student
Russian Federation, IrkutskReferences
- Романов Р.А., Корякин А.В., Сивков А.В., и др. МРТ-ТРУЗИ фьюжн-биопсия в диагностике рака предстательной железы. Экспериментальная и клиническая урология. 2021;14:86-93 [Romanov RA, Koryakin AV, Sivkov AV, et al. MRI fusion biopsy in the diagnosis of prostate cancer. Experimental and Clinical Urology. 2021;14:86-93 (in Russian)]. doi: 10.29188/2222-8543-2021-14-3-86-93
- Шахзадова А.О., Старинский В.В., Лисичникова И.В. Состояние онкологической помощи населению России в 2022 году. Сибирский онкологический журнал. 2023;22:5-13 [Shakhzadova AO, Starinsky VV, Lisichnikova IV. The State of Oncological Care for the Russian Population in 2022. Siberian Journal of Oncology. 2023;22:5-13 (in Russian)]. doi: 10.21294/1814-4861-2023-22-5-5-13
- Martorana E, Pirola GM, Aisa MC, et al. Prostate MRI and transperineal TRUS/MRI fusion biopsy for prostate cancer detection: clinical practice updates. Turk J Urol. 2019;45:237-44. doi: 10.5152/tud.2019.19106
- Liss MA, Taylor SA, Batura D, et al. Fluoroquinolone resistant rectal colonization predicts risk of infectious complications after transrectal prostate biopsy. J Urol. 2014;192:1673-8. doi: 10.1016/j.juro.2014.06.005
- Loeb S, Vellekoop A, Ahmed HU, et al. Systematic review of complications of prostate biopsy. Eur Urol. 2013;64:876-92. doi: 10.1016/j.eururo.2013.05.049
- Cornud F, Bomers J, Futterer JJ, et al. MR imaging-guided prostate interventional imaging: Ready for a clinical use? Diagn Interv Imaging. 2018;99:743-53. doi: 10.1016/j.diii.2018.08.002
- Chung Y, Hong SK. Shifting to transperineal prostate biopsy: A narrative review. Prostate Int. 2024;12:10-4. doi: 10.1016/j.prnil.2023.11.003
- Wang H, Lin H, He B, et al. A Novel Perineal Nerve Block Approach for Transperineal Prostate Biopsy: An Anatomical Analysis-based Randomized Single-blind Controlled Trial. Urology. 2020;146:25-31. doi: 10.1016/j.urology.2020.01.058
- Shen PF, Zhu YC, Wei WR, et al. The results of transperineal versus transrectal prostate biopsy: a systematic review and meta-analysis. Asian J Androl. 2012;14:310-5. doi: 10.1038/aja.2011.130
- Stangl-Kremser J, Ramaswamy A, Hu JC. Transperineal vs. transrectal biopsy to reduce postinterventional sepsis. Curr Opin Urol. 2023;33:193-9. doi: 10.1097/MOU.0000000000001083
- Zattoni F, Rajwa P, Miszczyk M, et al. Transperineal Versus Transrectal Magnetic Resonance Imaging-targeted Prostate Biopsy: A Systematic Review and Meta-analysis of Prospective Studies. Eur Urol Oncol. 2024;7:1303-12. doi: 10.1016/j.euo.2024.07.009
- Tewes S, Peters I, Tiemeyer A, et al. Evaluation of MRI/Ultrasound Fusion-Guided Prostate Biopsy Using Transrectal and Transperineal Approaches. Biomed Res Int. 2017;2017:2176471. doi: 10.1155/2017/2176471
- Mian BM, Feustel PJ, Aziz A, et al. Complications Following Transrectal and Transperineal Prostate Biopsy: Results of the ProBE-PC Randomized Clinical Trial. J Urol. 2024;211:205-13. doi: 10.1097/JU.0000000000003788
Supplementary files